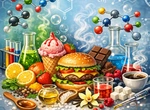Ключевыми понятиями, определяющими качество VR-опыта, являются иммерсия, присутствие и воплощение. Иммерсия — это техническая характеристика системы, ее способность обеспечивать убедительную сенсорную информацию, которая изолирует пользователя от физической реальности и переносит его в виртуальную. Она описывает, насколько хорошо технология симулирует способы, которыми мы ощущаем и воспринимаем окружающий мир. Присутствие, в свою очередь, — это субъективное ощущение «нахождения там», в виртуальной среде. Это психологический результат иммерсии, ключевой фактор, который заставляет человека вести себя и испытывать эмоции в VR так, словно все происходит на самом деле. Наконец, воплощение — это чувство обладания телом внутри виртуального пространства, обычно через аватара. Оно критически важно для чувства присутствия и состоит из трех компонентов: чувства контроля над движениями виртуального тела (агентность), ощущения, что это тело является собственным (владение телом), и четкого понимания, где в пространстве находится собственное «Я» (самолокализация).

Исследования подтверждают, что мозг обрабатывает VR-опыт схожим образом с реальным. В одном эксперименте сравнивались психофизиологические реакции людей на высоту в трех условиях: в реальной жизни, в VR (с использованием фотореалистичного 3D-360° видео) и на 2D-мониторе. Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) показал, что в реальных и VR-условиях наблюдались схожие уровни бдительности, тревоги и эмоциональной регуляции (альфа- и тета-ритмы), которые значительно отличались от показателей при просмотре на 2D-экране. Это говорит о том, что мозг обрабатывает эмоции, вызванные VR, практически так же, как и в реальности. Однако обработка соматосенсорной информации (бета-ритм) показала различия во всех трех условиях, указывая на то, что VR еще есть куда развиваться в плане тактильной обратной связи. Интересно, что вариабельность сердечного ритма (ВСР) показала, что реальная жизнь и VR вызывали состояние релаксации (ваготония), тогда как 2D-монитор провоцировал стрессовую реакцию (эрготропия).
Теоретической основой для применения VR, особенно в терапии, служат три концепции. Нейропластичность: VR создает стимулирующую и сложную среду, которая способствует реорганизации и адаптации мозга, укрепляя существующие нейронные связи и формируя новые. Теория моторного обучения: VR облегчает многократную, целенаправленную практику конкретных задач, помогая пользователям восстанавливать и оттачивать двигательные навыки. Теория экологических систем: VR предоставляет персонализированный и контекстуально релевантный опыт, имитирующий реальные сценарии, что способствует переносу и обобщению освоенных навыков в повседневную жизнь.
В основе VR-технологии лежат шлемы виртуальной реальности (HMD), такие как Oculus Rift или HTC Vive. Они обеспечивают широкое поле зрения и стереоскопическое изображение, показывая каждому глазу немного отличающуюся картинку для имитации бинокулярного зрения и создания эффекта глубины.

Системы отслеживания делятся на два типа. Системы с 3 степенями свободы (3DoF) отслеживают только вращение головы (вверх-вниз, вправо-влево). Они подходят для статичного просмотра 360-градусных видео. Системы с 6 степенями свободы (6DoF) отслеживают как вращение, так и положение головы в пространстве (движение вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо). Такое пространственное отслеживание позволяет пользователю ходить по виртуальному миру, что значительно усиливает чувство присутствия и снижает дезориентацию. Для отслеживания всего тела могут использоваться бесконтактные системы, вроде сенсоров Kinect, которые воссоздают скелет пользователя без необходимости крепления маркеров.
Задержка — это время между движением пользователя и реакцией дисплея. Высокая задержка разрушает погружение и вызывает киберболезнь (аналог морской болезни). Отраслевым стандартом, установленным Oculus, считается задержка не более 13 миллисекунд, что достигается при частоте обновления экрана 90 Гц. Современные шлемы предлагают еще более высокие частоты — 120 и даже 144 Гц.
Аватары, или воплощения пользователя в VR, служат точкой отсчета для масштаба, связывают человека с виртуальной средой и помогают компенсировать тот факт, что пользователь не видит своего реального тела. Однако с аватарами связан эффект «зловещей долины»: приемлемость аватара не растет линейно с его человекоподобием. Персонаж, который очень похож, но не идентичен человеку, может вызывать тревогу и дискомфорт. Исследования показывают, что либо упрощенное (абстрактное, в виде сфер и цилиндров) представление, либо сверхреалистичное (воссозданное из облака точек на основе реального вида пользователя) воспринимается лучше, чем почти реалистичная, но несовершенная 3D-модель, которая как раз и попадает в «зловещую долину».
Стандартным является вид от первого лица (1PP), когда пользователь смотрит на мир глазами своего аватара. Этот вид предпочтителен для задач, требующих точной манипуляции и быстрых рефлексов, и он обеспечивает более сильное чувство воплощения. Вид от третьего лица (3PP), когда виртуальная камера находится за спиной аватара, часто используется в играх для улучшения пространственной ориентации и навигации.
Киберболезнь проявляется тошнотой, головокружением, потерей равновесия и головными болями, которые могут сохраняться часами после сеанса. Ее главная причина — сенсорный конфликт. Глаза видят движение (например, на виртуальных американских горках), а вестибулярный аппарат сообщает о неподвижности. Эта иллюзия самодвижения называется векцией. Другая причина — постуральная нестабильность: тело оказывается в новой ситуации и не умеет поддерживать баланс под воздействием виртуальных стимулов. К киберболезни могут приводить и технические проблемы, такие как высокая задержка или низкая частота кадров. Индивидуальная предрасположенность также играет роль: женщины более подвержены, чем мужчины, а люди старше 50 лет могут испытывать дискомфорт чаще. К счастью, существуют стратегии смягчения: сидеть во время сеанса, использовать вентилятор для охлаждения, делать перерывы, начинать с коротких сессий и статических сцен, а также использовать гарнитуры 6DoF и правильно настраивать линзы.

Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире. Традиционная реабилитация часто монотонна, дорога и требует больших ресурсов. VR-реабилитация (VRBR) предлагает решение, повышая вовлеченность и мотивацию пациентов. Она позволяет проводить целенаправленные тренировки в симулированных реальных условиях, предлагая персонализированные упражнения с возрастающей сложностью и обратной связью в реальном времени. Многочисленные клинические исследования подтвердили ее эффективность. Работы ученых, таких как Анвар и соавторы, показали, что VR-тренировки превосходят традиционную терапию в улучшении баланса, функций верхних и нижних конечностей. Системы, такие как умная перчатка RAPAEL Smart Glove, значительно улучшали силу хвата и повседневную активность пациентов. Комбинация VR с экзоскелетами (Armeo Spring®) и роботизированными комплексами (Lokomat) ускоряла восстановление двигательных функций. Даже игровые системы на базе Kinect и PABLO показали свою безопасность и эффективность. Более того, сочетание VR с функциональной электростимуляцией (ФЭС) давало еще более выраженный результат. Исследование Хуанга и коллег показало, что иммерсивная VR не только улучшает моторику, но и вызывает положительные изменения в биомаркерах крови, связанных с воспалением, окислительным стрессом и нейропластичностью.
Нарушение равновесия — основная причина падений и снижения мобильности, особенно у пожилых людей. VR-тренировки активируют префронтальную и теменную кору головного мозга, способствуя нейропластичности и улучшая пространственную ориентацию. Технология задействует зрительную, вестибулярную и проприоцептивную системы, делая занятия более увлекательными, интерактивными и безопасными, чем обычная терапия. VR также успешно применяется при травмах спинного мозга, ДЦП, болезни Паркинсона, легких когнитивных нарушениях и вестибулярных расстройствах. Например, у пациентов с болезнью Паркинсона VR с визуальной обратной связью оказалась эффективнее традиционных методов для контроля позы.
В образовании VR открывает возможности для иммерсивных виртуальных экскурсий, сложных симуляций и совместного обучения в безопасной и экономичной среде. Наиболее подходящими теоретическими основами для образовательной VR считаются конструктивизм (учащиеся строят знания на собственном опыте) и обучение через опыт. Огромный потенциал имеет геймификация обучения. Однако серьезной проблемой остается то, что, по данным обзора, лишь около 30% исследований в области образовательной VR опираются на какую-либо теорию обучения. Это говорит об отсутствии прочной теоретической базы, что может приводить к созданию неоптимальных обучающих программ.

Пандемия COVID-19 усилила чувства одиночества и социальной изоляции. Социальные VR-платформы, такие как Altspace VR, стали для многих выходом. Исследование пользователей таких платформ показало, что во время нахождения в VR у них значительно снижались уровни одиночества и социальной тревожности по сравнению с их самоощущением в реальном мире. Наличие постоянной группы друзей в VR и длительное использование платформы коррелировало со снижением социальной тревожности даже в оффлайне. Пользователи ценили VR за возможность знакомиться с новыми людьми, посещать мероприятия и чувствовать себя частью сообщества в менее пугающей социальной обстановке. VR также используется в терапии для лечения фобий (например, боязни высоты) методом систематической десенсибилизации в безопасной, контролируемой среде.
Технологии создают и психологические вызовы. Теоретик Кеннет Герген предупреждал о «мультифрении» — фрагментированном «Я», разрываемом в разные стороны технологиями под девизом «Я подключен, следовательно, я существую». Шерри Теркл в своей книге «Одинокие вместе» отмечает, что, будучи привязанными к гаджетам, люди могут чувствовать себя совершенно одинокими, создавая идеализированные онлайн-персоны. Психолог Али Джазайери указывает на опасность «депрессии Ф⃰», возникающей из-за сравнения своей реальной жизни с тщательно отобранными, счастливыми образами других людей в соцсетях. Это может стать формой эскапизма, позволяя создавать ложную реальность и избегать решения реальных проблем. На профессиональных сайтах, таких как LinkedIn, возникает тонкая грань между личным брендингом и искажением действительности, что может навредить карьере.
Технологии и социальные сети предоставляют еще один способ отдалиться друг от друга в паре. Хотя они могут облегчить измену, корень проблемы часто кроется в уже существующем несчастье в отношениях; технология лишь предоставляет удобный инструмент для поиска отдушины. Главный вред заключается в отсутствии присутствия и внимания, которое партнеры и даже родители уделяют друг другу, предпочитая экран живому общению.
Несмотря на огромный потенциал, широкому распространению VR мешает ряд проблем. Киберболезнь остается серьезным барьером для значительной части пользователей. Высокая стоимость оборудования ограничивает его доступность. Системы должны быть интуитивно понятными, особенно для пожилых людей или тех, кто не знаком с технологиями. Долгосрочные последствия воздействия близко расположенных экранов на зрение пока до конца не изучены.

Существуют и этические, и методологические вызовы. Необходимо разработать стандарты для VR-тренировок, определить оптимальную интенсивность, продолжительность и метрики оценки. Терапевты и преподаватели нуждаются в специальной подготовке для эффективного использования VR. Вопросы конфиденциальности данных пациентов и этики контента, который в VR может быть крайне реалистичным, требуют срочного решения.
Научному сообществу предстоит провести больше крупных, контролируемых исследований, чтобы подтвердить долгосрочную эффективность VR и выяснить, переносятся ли навыки, полученные в виртуальной среде, на повседневную жизнь. Необходимо глубже изучить нейронные механизмы, лежащие в основе действия VR, и расширить исследования, включив в них не только моторные, но и когнитивные, эмоциональные и социальные аспекты реабилитации. Будущее образовательной VR напрямую зависит от того, будет ли ее разработка опираться на прочные теоретические основы обучения, что позволит полностью раскрыть ее преобразующий потенциал.

Исследования подтверждают, что мозг обрабатывает VR-опыт схожим образом с реальным. В одном эксперименте сравнивались психофизиологические реакции людей на высоту в трех условиях: в реальной жизни, в VR (с использованием фотореалистичного 3D-360° видео) и на 2D-мониторе. Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) показал, что в реальных и VR-условиях наблюдались схожие уровни бдительности, тревоги и эмоциональной регуляции (альфа- и тета-ритмы), которые значительно отличались от показателей при просмотре на 2D-экране. Это говорит о том, что мозг обрабатывает эмоции, вызванные VR, практически так же, как и в реальности. Однако обработка соматосенсорной информации (бета-ритм) показала различия во всех трех условиях, указывая на то, что VR еще есть куда развиваться в плане тактильной обратной связи. Интересно, что вариабельность сердечного ритма (ВСР) показала, что реальная жизнь и VR вызывали состояние релаксации (ваготония), тогда как 2D-монитор провоцировал стрессовую реакцию (эрготропия).
Теоретической основой для применения VR, особенно в терапии, служат три концепции. Нейропластичность: VR создает стимулирующую и сложную среду, которая способствует реорганизации и адаптации мозга, укрепляя существующие нейронные связи и формируя новые. Теория моторного обучения: VR облегчает многократную, целенаправленную практику конкретных задач, помогая пользователям восстанавливать и оттачивать двигательные навыки. Теория экологических систем: VR предоставляет персонализированный и контекстуально релевантный опыт, имитирующий реальные сценарии, что способствует переносу и обобщению освоенных навыков в повседневную жизнь.
Технологический фундамент VR и пользовательский опыт
В основе VR-технологии лежат шлемы виртуальной реальности (HMD), такие как Oculus Rift или HTC Vive. Они обеспечивают широкое поле зрения и стереоскопическое изображение, показывая каждому глазу немного отличающуюся картинку для имитации бинокулярного зрения и создания эффекта глубины.

Степени свободы и отслеживание движений
Системы отслеживания делятся на два типа. Системы с 3 степенями свободы (3DoF) отслеживают только вращение головы (вверх-вниз, вправо-влево). Они подходят для статичного просмотра 360-градусных видео. Системы с 6 степенями свободы (6DoF) отслеживают как вращение, так и положение головы в пространстве (движение вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо). Такое пространственное отслеживание позволяет пользователю ходить по виртуальному миру, что значительно усиливает чувство присутствия и снижает дезориентацию. Для отслеживания всего тела могут использоваться бесконтактные системы, вроде сенсоров Kinect, которые воссоздают скелет пользователя без необходимости крепления маркеров.
Задержка (Latency) и киберболезнь
Задержка — это время между движением пользователя и реакцией дисплея. Высокая задержка разрушает погружение и вызывает киберболезнь (аналог морской болезни). Отраслевым стандартом, установленным Oculus, считается задержка не более 13 миллисекунд, что достигается при частоте обновления экрана 90 Гц. Современные шлемы предлагают еще более высокие частоты — 120 и даже 144 Гц.
Аватары и эффект «зловещей долины»
Аватары, или воплощения пользователя в VR, служат точкой отсчета для масштаба, связывают человека с виртуальной средой и помогают компенсировать тот факт, что пользователь не видит своего реального тела. Однако с аватарами связан эффект «зловещей долины»: приемлемость аватара не растет линейно с его человекоподобием. Персонаж, который очень похож, но не идентичен человеку, может вызывать тревогу и дискомфорт. Исследования показывают, что либо упрощенное (абстрактное, в виде сфер и цилиндров) представление, либо сверхреалистичное (воссозданное из облака точек на основе реального вида пользователя) воспринимается лучше, чем почти реалистичная, но несовершенная 3D-модель, которая как раз и попадает в «зловещую долину».
Перспектива: от первого и третьего лица
Стандартным является вид от первого лица (1PP), когда пользователь смотрит на мир глазами своего аватара. Этот вид предпочтителен для задач, требующих точной манипуляции и быстрых рефлексов, и он обеспечивает более сильное чувство воплощения. Вид от третьего лица (3PP), когда виртуальная камера находится за спиной аватара, часто используется в играх для улучшения пространственной ориентации и навигации.
Киберболезнь: причины и способы борьбы
Киберболезнь проявляется тошнотой, головокружением, потерей равновесия и головными болями, которые могут сохраняться часами после сеанса. Ее главная причина — сенсорный конфликт. Глаза видят движение (например, на виртуальных американских горках), а вестибулярный аппарат сообщает о неподвижности. Эта иллюзия самодвижения называется векцией. Другая причина — постуральная нестабильность: тело оказывается в новой ситуации и не умеет поддерживать баланс под воздействием виртуальных стимулов. К киберболезни могут приводить и технические проблемы, такие как высокая задержка или низкая частота кадров. Индивидуальная предрасположенность также играет роль: женщины более подвержены, чем мужчины, а люди старше 50 лет могут испытывать дискомфорт чаще. К счастью, существуют стратегии смягчения: сидеть во время сеанса, использовать вентилятор для охлаждения, делать перерывы, начинать с коротких сессий и статических сцен, а также использовать гарнитуры 6DoF и правильно настраивать линзы.
Практическое применение VR: от медицины до образования
Реабилитация после инсульта и травм

Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире. Традиционная реабилитация часто монотонна, дорога и требует больших ресурсов. VR-реабилитация (VRBR) предлагает решение, повышая вовлеченность и мотивацию пациентов. Она позволяет проводить целенаправленные тренировки в симулированных реальных условиях, предлагая персонализированные упражнения с возрастающей сложностью и обратной связью в реальном времени. Многочисленные клинические исследования подтвердили ее эффективность. Работы ученых, таких как Анвар и соавторы, показали, что VR-тренировки превосходят традиционную терапию в улучшении баланса, функций верхних и нижних конечностей. Системы, такие как умная перчатка RAPAEL Smart Glove, значительно улучшали силу хвата и повседневную активность пациентов. Комбинация VR с экзоскелетами (Armeo Spring®) и роботизированными комплексами (Lokomat) ускоряла восстановление двигательных функций. Даже игровые системы на базе Kinect и PABLO показали свою безопасность и эффективность. Более того, сочетание VR с функциональной электростимуляцией (ФЭС) давало еще более выраженный результат. Исследование Хуанга и коллег показало, что иммерсивная VR не только улучшает моторику, но и вызывает положительные изменения в биомаркерах крови, связанных с воспалением, окислительным стрессом и нейропластичностью.
Восстановление баланса и другие неврологические состояния
Нарушение равновесия — основная причина падений и снижения мобильности, особенно у пожилых людей. VR-тренировки активируют префронтальную и теменную кору головного мозга, способствуя нейропластичности и улучшая пространственную ориентацию. Технология задействует зрительную, вестибулярную и проприоцептивную системы, делая занятия более увлекательными, интерактивными и безопасными, чем обычная терапия. VR также успешно применяется при травмах спинного мозга, ДЦП, болезни Паркинсона, легких когнитивных нарушениях и вестибулярных расстройствах. Например, у пациентов с болезнью Паркинсона VR с визуальной обратной связью оказалась эффективнее традиционных методов для контроля позы.
Образование и новые горизонты обучения
В образовании VR открывает возможности для иммерсивных виртуальных экскурсий, сложных симуляций и совместного обучения в безопасной и экономичной среде. Наиболее подходящими теоретическими основами для образовательной VR считаются конструктивизм (учащиеся строят знания на собственном опыте) и обучение через опыт. Огромный потенциал имеет геймификация обучения. Однако серьезной проблемой остается то, что, по данным обзора, лишь около 30% исследований в области образовательной VR опираются на какую-либо теорию обучения. Это говорит об отсутствии прочной теоретической базы, что может приводить к созданию неоптимальных обучающих программ.
Психологическое и социальное измерение виртуальной жизни
Социальные VR-платформы как лекарство от одиночества

Пандемия COVID-19 усилила чувства одиночества и социальной изоляции. Социальные VR-платформы, такие как Altspace VR, стали для многих выходом. Исследование пользователей таких платформ показало, что во время нахождения в VR у них значительно снижались уровни одиночества и социальной тревожности по сравнению с их самоощущением в реальном мире. Наличие постоянной группы друзей в VR и длительное использование платформы коррелировало со снижением социальной тревожности даже в оффлайне. Пользователи ценили VR за возможность знакомиться с новыми людьми, посещать мероприятия и чувствовать себя частью сообщества в менее пугающей социальной обстановке. VR также используется в терапии для лечения фобий (например, боязни высоты) методом систематической десенсибилизации в безопасной, контролируемой среде.
Фрагментированное «я» и цифровая личность
Технологии создают и психологические вызовы. Теоретик Кеннет Герген предупреждал о «мультифрении» — фрагментированном «Я», разрываемом в разные стороны технологиями под девизом «Я подключен, следовательно, я существую». Шерри Теркл в своей книге «Одинокие вместе» отмечает, что, будучи привязанными к гаджетам, люди могут чувствовать себя совершенно одинокими, создавая идеализированные онлайн-персоны. Психолог Али Джазайери указывает на опасность «депрессии Ф⃰», возникающей из-за сравнения своей реальной жизни с тщательно отобранными, счастливыми образами других людей в соцсетях. Это может стать формой эскапизма, позволяя создавать ложную реальность и избегать решения реальных проблем. На профессиональных сайтах, таких как LinkedIn, возникает тонкая грань между личным брендингом и искажением действительности, что может навредить карьере.
Влияние на близкие отношения
Технологии и социальные сети предоставляют еще один способ отдалиться друг от друга в паре. Хотя они могут облегчить измену, корень проблемы часто кроется в уже существующем несчастье в отношениях; технология лишь предоставляет удобный инструмент для поиска отдушины. Главный вред заключается в отсутствии присутствия и внимания, которое партнеры и даже родители уделяют друг другу, предпочитая экран живому общению.
Вызовы, ограничения и будущее виртуальной реальности
Несмотря на огромный потенциал, широкому распространению VR мешает ряд проблем. Киберболезнь остается серьезным барьером для значительной части пользователей. Высокая стоимость оборудования ограничивает его доступность. Системы должны быть интуитивно понятными, особенно для пожилых людей или тех, кто не знаком с технологиями. Долгосрочные последствия воздействия близко расположенных экранов на зрение пока до конца не изучены.

Существуют и этические, и методологические вызовы. Необходимо разработать стандарты для VR-тренировок, определить оптимальную интенсивность, продолжительность и метрики оценки. Терапевты и преподаватели нуждаются в специальной подготовке для эффективного использования VR. Вопросы конфиденциальности данных пациентов и этики контента, который в VR может быть крайне реалистичным, требуют срочного решения.
Научному сообществу предстоит провести больше крупных, контролируемых исследований, чтобы подтвердить долгосрочную эффективность VR и выяснить, переносятся ли навыки, полученные в виртуальной среде, на повседневную жизнь. Необходимо глубже изучить нейронные механизмы, лежащие в основе действия VR, и расширить исследования, включив в них не только моторные, но и когнитивные, эмоциональные и социальные аспекты реабилитации. Будущее образовательной VR напрямую зависит от того, будет ли ее разработка опираться на прочные теоретические основы обучения, что позволит полностью раскрыть ее преобразующий потенциал.