Из чего мы все сделаны, русские?
Меня сделали в СССР, и я состою из всего этого. Это и мой генетический код.
Irgata
Из чего мы все сделаны, русские?




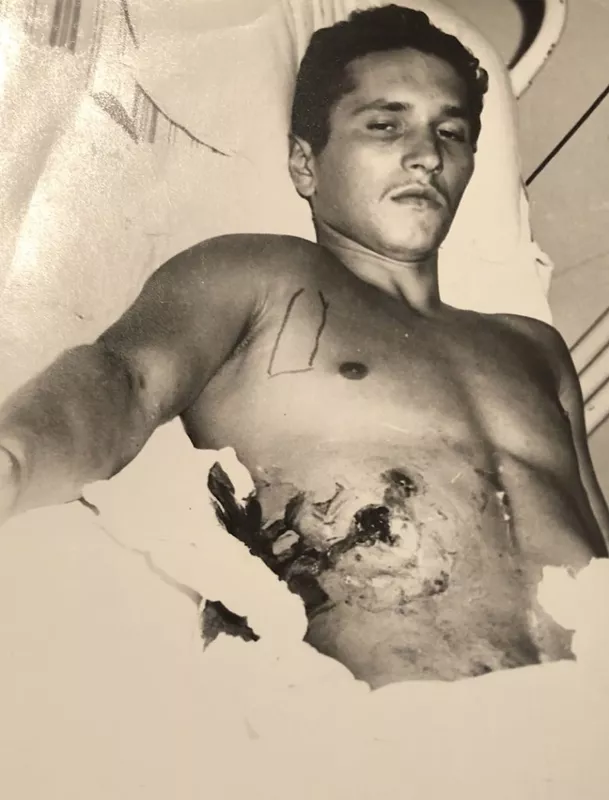

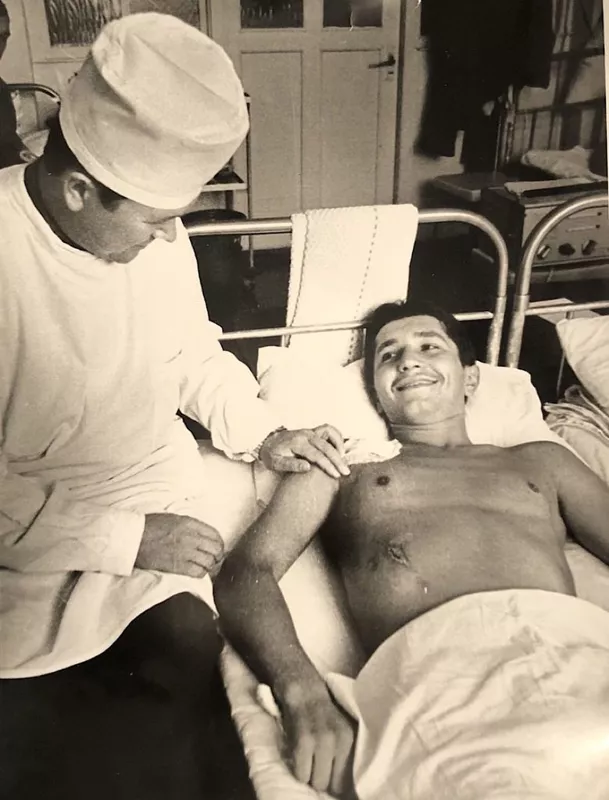



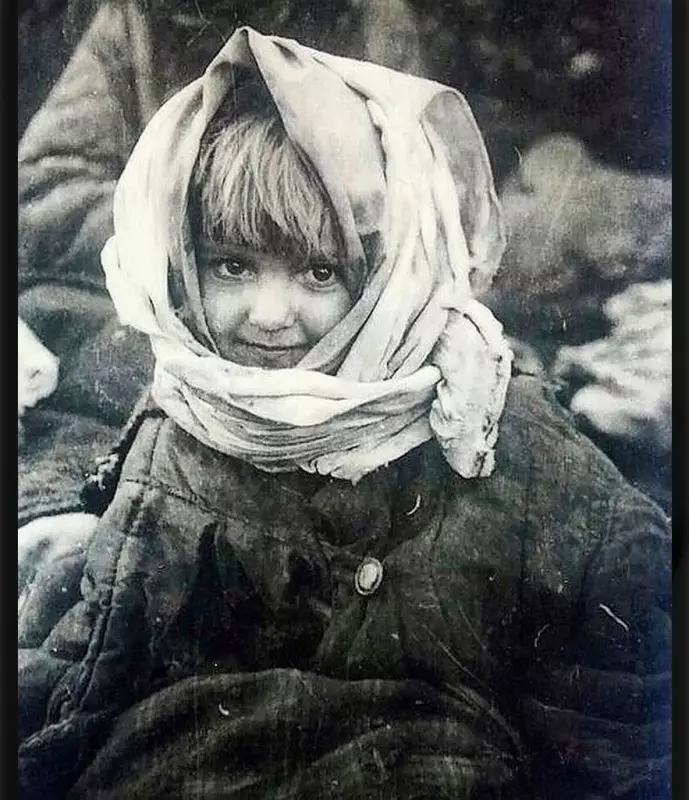



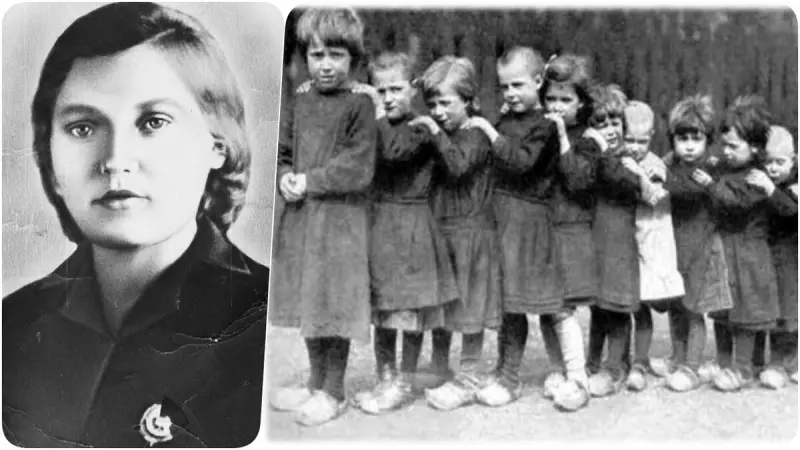



«Четвёртaя выcотa".
теперь поищи, что представляют из себя ее потомки. Впечатлишься еще больше.
, сын там нормальный. Но он умер уже давно.
Неизвестно под какую дуду сейчас пела бы сама Гуля, если бы осталась жива.Мне думается, если человек не пожалел жизни в борьбе за родину против фашистов – это 100% гарантия. Ты молодогвардейцев, генерала Карбышева и Зою Космодемьянскую тоже подозреваешь в этом?
Ты молодогвардейцев, генерала Карбышева и Зою Космодемьянскую тоже подозреваешь в этом?
В моём детстве Павлик Морозов был герой, ОктябрьВ моем детстве Павлик Морозов не в войне с фашистами погиб. И рассказы о его гибели – это наша история, которая переписывалась и продолжает переписываться. В 90-е много чего появилось. И мы пытаемся сейчас рассуждать непонятно о чем и непонятно зачем.
Кто знает, как былоЭто-то как раз знают. А вот как трактуют потом? Зоя Космодемьянская – шизофреничка, Алескандр Матросов поскользнулся, упав грудью на ДЗОТ. Определенным людям надо смещать понятия в головах тех, кто готов к этому.
И мы пытаемся сейчас рассуждать непонятно о чем и непонятно зачем
Светлая ей память, без подробностей о потомстве.Подозревать ее в изменении взглядов, за которые она погибла?
Неизвестно под какую дуду сейчас пела бы сама Гуля, если бы осталась жива.Это и есть светлая память???
Зачем нам знать о внуке ГулиЗатем, что врагов надо знать в лицо. А не накручивать облыжные обвинения в адрес погибших героев.
Затем, что врагов надо знать в лицо. А не накручивать облыжные обвинения в адрес погибших героев
Когда-то писал товарисч нормальные стихи
Тебе видно заняться больше нечем? Как о внуках погибших героев в интернете сведения выискивать. Враги иногда гораздо ближе, чем чужие внуки в другой странеЯ привыкла сама определять – чем мне заниматься. Мне интересно и это в том числе. Кому не интересно – проходят мимо (ты не прошла, выискала. И даже дальше пошла в своих фантазиях: начала ей приписывать то, что в страшном сне ей присниться не могло. На это почему-то время нашлось).
Когда то ты его очень уважала, а он не оправдалДа, поэтому и написала «раньше». А все, что он исторгает сейчас – очень сходно с тем, что пропагандирует внук Гули. И что из этого факта следует? Не замечать этого? Я замечаю. И отношусь соответственно.
что пропагандирует внук Гули. И что из этого факта следует? Не замечать этого? Я замечаю. И отношусь соответственно.
Мне глубоко плевать на чужого внукаТакая точка зрения тоже имеет право на существование. Я же не собираюсь тебя переубеждать. А вот с тем, что
Неизвестно под какую дуду сейчас пела бы сама Гуля, если бы осталась живая совершенно не согласна, и доводы свои привела. Твои тоже увидела. Не убедили.
Твои тоже увидела. Не убедили.
И окружающие развлеклись
Я про внука.
Затем, что врагов надо знать в лицо.
Враги иногда гораздо ближе
Всех не узнаешь.Понятие «всё» складывается из отдельных фрагментов. Без фрагментов не будет целого. Можно вообще ничего не видеть в упор...
Я же всё нашла сегодня.Зачем тогда искала.
Зачем тогда искала
Что значит зачемНу ты же говоришь в ответ на мой аргумент:
Затем, что врагов надо знать в лицо.Я как раз отвечала на вопрос «зачем я ищу в инете информацию про «чужих внуков». Это про потомков известных людей, чья судьба мне всегда интересна. Но, как выяснилось, это не всем нравится.
Всех не узнаешь


А не для того чтобы знать врагов в лицо. Не думаю, что когда-нибудь встретимся.Лена, зачем все так буквально понимать? Слово «враг» здесь условное, что под ним подразумевается – все понимают. И «лицо» тоже условно... И вробще это устоявшееся выражение, имеющее конкретный смысл.








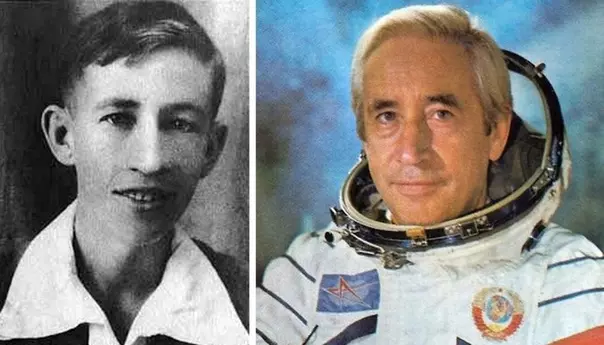
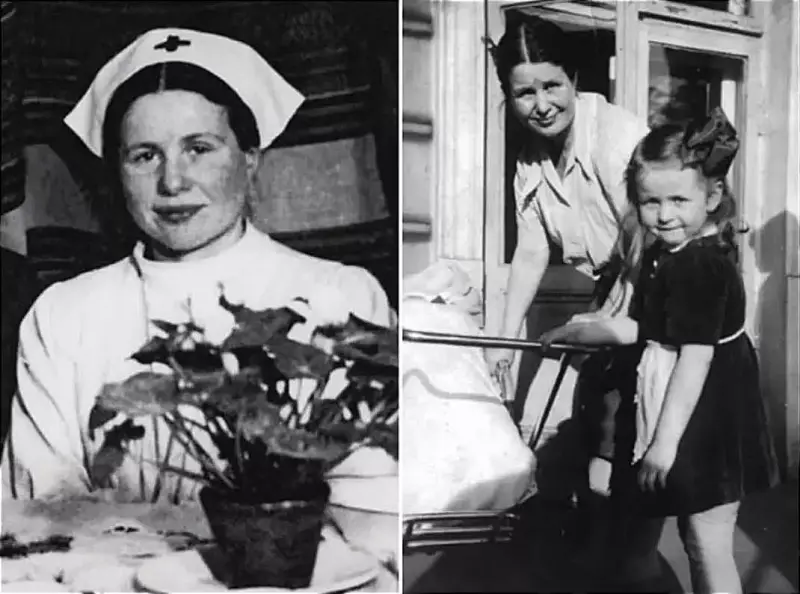


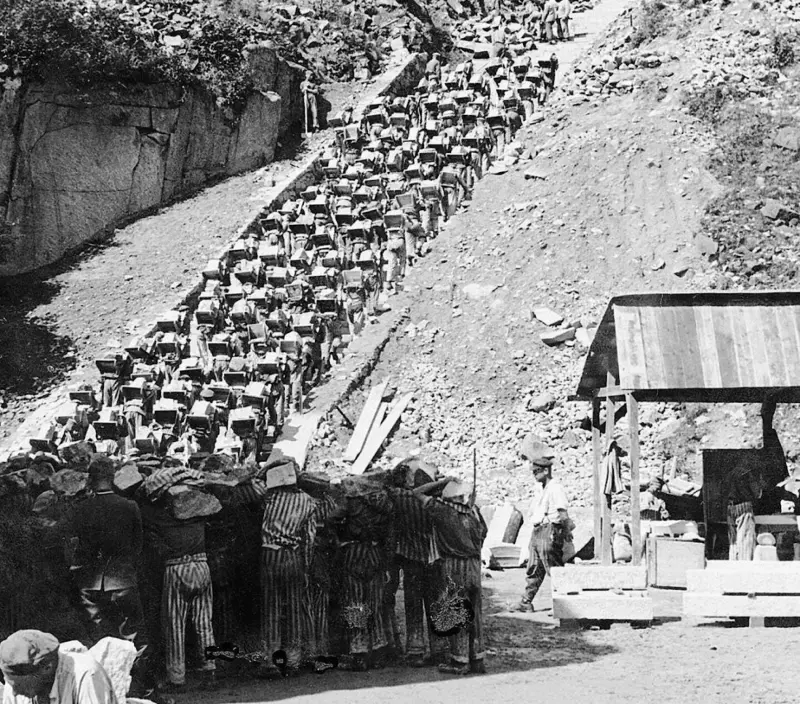



«измельчитель костей».как страшно это читая, узнавать. Ещё страшнее представить...
в Маутхаузене
Детей всех туда возят, в старших классах.
Надеюсь, что на волне европейского психоза это не отменили.Не знаю, но не думаю, что отменили. 9 мая был Бессмертный полк в Вене..
Не знаю, но не думаю, что отменили. 9 мая был Бессмертный полк в Вене..люди отдельно, политика отдельно.
люди отдельно, политика отдельно.Без разрешения властей никаких демонстраций быть не может..




 Больше вариативности помогает обучению
Больше вариативности помогает обучению  Телесно-ориентированная психотерапия
Телесно-ориентированная психотерапия  Как общаться с людьми другого интеллектуального уровня
Как общаться с людьми другого интеллектуального уровня  Увеличенная конформность молодых людей, у которых мало друзей
Увеличенная конформность молодых людей, у которых мало друзей  Весёлые истории от Леонида Тугутова
Весёлые истории от Леонида Тугутова  Соперничество между братьями и сестрами, разделившее город
Соперничество между братьями и сестрами, разделившее город  Дэн Коэ: как совершить величайшее возвращение в своей жизни
Дэн Коэ: как совершить величайшее возвращение в своей жизни  Как эмоции управляют нашими кошельками: психология импульсивных покупок и финансовых решений
Как эмоции управляют нашими кошельками: психология импульсивных покупок и финансовых решений  Глобальная эпидемия невидимости: природа и масштабы социального одиночества
Глобальная эпидемия невидимости: природа и масштабы социального одиночества  Заварные блины
Заварные блины  Оладьи
Оладьи  Блины
Блины  Панкейки
Панкейки Овсяные блины
Овсяные блины  Дрожжевые блины
Дрожжевые блины  Блинные пироги и торты
Блинные пироги и торты  Национальные блины
Национальные блины  Тонкие блинчики
Тонкие блинчики  Творожные блины
Творожные блины  Глазирование и деглазирование: два приёма, которые стоит освоить каждому
Глазирование и деглазирование: два приёма, которые стоит освоить каждому  Припускание: кулинарная техника, которую стоит освоить
Припускание: кулинарная техника, которую стоит освоить  Доктор Брэдли Нельсон: как заблокированные эмоции вызывают хронические заболевания
Доктор Брэдли Нельсон: как заблокированные эмоции вызывают хронические заболевания  Полосатые блины "Зебра" с эффектным рисунком
Полосатые блины "Зебра" с эффектным рисунком  Льезон: что это, как готовить и где применять
Льезон: что это, как готовить и где применять  Кофе зимой: что происходит с организмом, настроением и привычками
Кофе зимой: что происходит с организмом, настроением и привычками  Виды фасоли: чем красная, белая, чёрная и стручковая отличаются друг от друга
Виды фасоли: чем красная, белая, чёрная и стручковая отличаются друг от друга  Маринады для птицы: 10 рецептов для курицы, индейки, утки и не только
Маринады для птицы: 10 рецептов для курицы, индейки, утки и не только  Цизелирование: зачем повара надрезают рыбу перед приготовлением
Цизелирование: зачем повара надрезают рыбу перед приготовлением  Мойки высокого давления
Мойки высокого давления