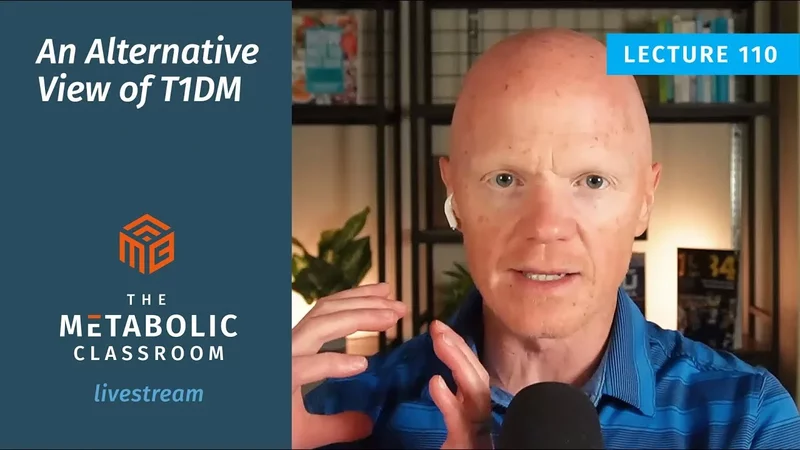

На протяжении десятилетий мы фокусировались исключительно на инсулине в контексте диабета 1-го типа, полагая, что дефицит инсулина – это полная история. Однако что, если другой гормон тайно способствует хаосу в организме? Избыток глюкагона, а не только недостаток инсулина, является ключевым фактором гипергликемии и почти постоянной гликемической вариабельности при диабете 1-го типа, и, возможно, даже при диабете 2-го типа. Бета-клетки производят инсулин, а альфа-клетки — глюкагон. При диабете 1-го типа инсулин отсутствует, но глюкагон продолжает бесконтрольно выделяться. Именно поэтому инъекционный инсулин не может полностью восстановить баланс.
Он не способен воссоздать высокие клеточные уровни инсулина, необходимые для подавления глюкагона. Для более эффективного лечения диабета 1-го типа необходимо не просто замещать инсулин, но и учитывать роль глюкагона.
Как этот альтернативный взгляд бросает вызов традиционному пониманию диабета 1-го типа?
Долгое время диабет 1-го типа рассматривался преимущественно через призму дефицита инсулина, который возникает из-за аутоиммунного разрушения бета-клеток, что приводит к недостаточной или практически отсутствующей выработке инсулина. Это, в конечном итоге, вызывает основные признаки диабета 1-го типа, такие как гипергликемия и связанные с ней осложнения. Однако такой взгляд, хотя и не является ошибочным, не является полным. Альтернативная перспектива, которая помещает другой гормон, глюкагон, в центр внимания, основана на десятилетиях тщательных исследований, проведенных одним из самых влиятельных исследователей диабета нашего времени, доктором Роджером Ангэром.
Его работа предполагает, что избыток глюкагона, а не только дефицит инсулина, является фундаментальным фактором метаболического хаоса, наблюдаемого при нелеченом диабете 1-го типа, и, откровенно говоря, даже при лечении. Эта точка зрения не умаляет важности заместительной инсулиновой терапии, которая является жизненно важной для пациентов с диабетом 1-го типа. Но она открывает глаза на то, почему существующие методы лечения, включая инсулиновую терапию, спасающие жизни, все еще не достигают оптимального, не говоря уже о совершенном, метаболическом контроле. Роджер Ангэр, который недавно ушел из жизни в возрасте 96 лет, посвятил более шести десятилетий своей карьеры Техасскому университету Юго-Западного медицинского центра. Он совершил революцию в нашем понимании диабета. В то время как большинство исследователей сосредоточились исключительно на инсулине при изучении диабета 1-го типа, доктор Ангэр проявил дальновидность, задавшись вопросом о роли глюкагона.
В 1959 году доктор Ангэр сделал новаторское открытие, которое изменило бы понимание диабета для тех, кто был с ним знаком. Он показал, что глюкагон не просто второстепенный гормон поджелудочной железы, а важный регулятор уровня глюкозы в крови, который действует в противовес инсулину. Это было революционно, поскольку медицинское сообщество было зациклено на инсулине как на единственном игроке в гомеостазе глюкозы, единственном гормоне поджелудочной железы, влияющем на этот процесс. Именно работа доктора Ангэра установила то, что он назвал бигормональной гипотезой диабета. Эта теория предполагает, что диабет — это не просто заболевание, связанное с дефицитом инсулина, что является очевидной частью, но также и заболевание, связанное с неадекватным избытком глюкагона относительно того, что инсулин способен делать.
Как элегантно выразился доктор Ангэр, избыток глюкагона, а не дефицит инсулина, может быть «sine qua non» диабета, то есть его существенной особенностью, поскольку, если устранить глюкагон, можно фактически устранить и само заболевание. На протяжении своей карьеры доктор Ангэр демонстрировал, что гиперглюкагонемия присутствует при всех формах диабета и что глюкагон ответственен за ключевые метаболические нарушения, связанные с этим заболеванием. К ним относятся чрезмерная выработка глюкозы печенью (технически называемая печеночной продукцией глюкозы), кетогенез и в некоторой степени даже катаболизм белков. Его исследования показали, что при блокировании действия глюкагона многие классические признаки диабета исчезают, даже при отсутствии инсулина. Это означает, что даже если инсулин отсутствует в экспериментальных моделях, просто блокирование действия глюкагона приводит к значительному улучшению.
Как функционирует глюкагон в нормальном состоянии?
Глюкагон вырабатывается альфа-клетками островков поджелудочной железы, которые представляют собой небольшие скопления клеток. Бета-клетки и альфа-клетки составляют большинство этих островков. Альфа-клетки в островках служат метаболическим антагонистом инсулина. Когда уровень глюкозы в крови падает, глюкагон высвобождается для стимуляции печеночной продукции глюкозы посредством двух основных механизмов. Это гликогенолиз, то есть расщепление запасенного гликогена (который является просто запасом глюкозы), и глюконеогенез, то есть создание новой глюкозы из любых источников углерода, таких как аминокислоты, лактат или глицерин из расщепленных триглицеридов. Любые из этих углеродов, которые могут быть преобразованы или переработаны в глюкозу, являются субстратом для глюконеогенеза, и глюкагон способствует этому процессу.
Ключевой момент заключается в том, что секреция глюкагона обычно жестко регулируется местными концентрациями инсулина в пределах узкой географии поджелудочных островков. В этих маленьких островках клетки бета и альфа буквально существуют как соседи, находясь в непосредственной близости друг от друга и, таким образом, активно обмениваясь сигналами. Инсулин, выделяемый бета-клетками, действует как мощный паракринный супрессор высвобождения глюкагона. Паракринная сигнализация происходит, когда одна клетка посылает сигнал другой без необходимости выброса гормона в общий кровоток. Когда альфа- и бета-клетки общаются, бета-клетка выделяет инсулин паракринным образом непосредственно своим соседям, действуя на альфа-клетку до того, как он попадет в кровь. Это означает, что когда уровень инсулина повышается после еды, содержащей углеводы, секреция глюкагона подавляется из-за всего этого инсулина, что помогает предотвратить неадекватную выработку глюкозы, когда она не нужна.
Если мы потребляем глюкозу, мы не хотим, чтобы глюкагон шел в печень, приказывая печени производить больше глюкозы. Местная регуляция является прекрасно и удивительно сложной. Концентрация инсулина в островках поджелудочной железы намного выше, чем то, что мы измеряем в периферическом кровообращении. Уровни инсулина в островках могут быть в 100 раз выше, чем в системном кровотоке. Высокая местная продукция инсулина в этих узких островках необходима для адекватного подавления секреции глюкагона. Островок функционирует как единое целое, где бета-клетки не просто производят инсулин для тела, мозга, мышц или печени, но также создают локальную гормональную среду, которая необходима для поддержания альфа-клеток под контролем. Иными словами, альфа-клетки привыкли получать много инсулина, и это становится проблемой.
Таким образом, когда система работает правильно, глюкагон высвобождается только тогда, когда это необходимо, например, при голодании, физической нагрузке или потенциальной гипогликемии. Важно отметить, что все это состояния, когда выработка инсулина очень низка. Когда выработка инсулина снижается, ингибирование альфа-клеток глюкагоном уменьшается, и теперь глюкагон может повышаться. Элегантность этой системы становится очевидной, когда мы учитываем, что оба гормона реагируют на один и тот же стимул — глюкозу, но в противоположных направлениях. По мере повышения уровня глюкозы инсулин увеличивается, а глюкагон уменьшается. По мере падения уровня глюкозы в крови инсулин уменьшается, а глюкагон повышается. Это создает довольно надежную и даже ежеминутную саморегулирующуюся систему, которая сосредоточена на гомеостазе глюкозы в широком диапазоне физиологических состояний, будь то сон, физическая нагрузка или что-то среднее.
Как нарушается баланс глюкагона при диабете 1-го типа?
При диабете 1-го типа происходит аутоиммунное разрушение бета-клеток, продуцирующих инсулин, но альфа-клетки, продуцирующие глюкагон, остаются нетронутыми. Это создает метаболическую проблему, поскольку мы теряем инсулинпродуцирующие клетки, но сохраняем глюкагонпродуцирующие, и, что критически важно, с потерей бета-клеток и их инсулинового продукта мы теряем местное подавление инсулина, которое так важно для контроля глюкагона. Когда бета-клетки разрушаются, системная выработка инсулина прекращается, что приводит к знакомым последствиям недостатка инсулина. Но не менее важной и часто упускаемой из виду является потеря местного подавления глюкагона. Высокий уровень инсулина внутри островков поджелудочной железы необходим.
Если бы мы могли измерить уровни инсулина в островках и сравнить их с уровнями в плазме крови из вены в руке, местная концентрация инсулина в островках была бы примерно в 100 раз выше, чем в системном кровообращении. Это означает, что альфа-клетки, которые остаются присутствующими и функциональными, теперь работают без своего обычного тормоза, своего ингибитора. Даже когда уровень глюкозы в крови повышен — ситуация, которая, казалось бы, должна подавлять глюкагон — альфа-клетки продолжают неадекватно секретировать глюкагон, потому что они больше не получают местный инсулиновый сигнал, который обычно отключает их. Высокий уровень глюкозы не ингибирует глюкагон; это делает инсулин. Когда глюкоза повышается, инсулин также повышается, и именно высокий уровень инсулина отключает альфа-клетку.
Каковы последствия неконтролируемого глюкагона?
В результате всего этого возникает состояние гиперглюкагонемии, при котором уровни глюкагона не соответствуют метаболическому контексту, то есть высокому уровню глюкозы. Глюкагон просто выбрасывает еще больше глюкозы, усугубляя гипергликемию. Кроме того, глюкагон также способствует кетогенезу. Хотя степень этого явления у людей до конца не ясна, в клеточных и грызунных моделях очень очевидно, что глюкагон активирует кетогенез. Таким образом, высокий уровень глюкагона способствует диабетическому кетоацидозу у нелеченых пациентов с диабетом 1-го типа, что, конечно, усиливается отсутствием инсулина, поскольку инсулин мощно ингибирует кетогенез. Третий и самый неясный момент, отмеченный доктором Ангэром, — это усиление катаболизма белков, то есть расщепления белков из тканей, таких как мышцы. Это не прямой эффект; глюкагон не воздействует на мышцы напрямую. Считается, что это происходит косвенно.
Роджер Ангэр признал, что многие классические признаки диабета 1-го типа — гипергликемия, кетоацидоз, истощение белков — не просто следствия дефицита инсулина, но активно вызваны тем глюкагоном, который просто не отключается. В экспериментальных моделях, когда действие глюкагона блокируется, эти признаки диабета значительно уменьшаются, даже при полном отсутствии инсулина.
Почему инъекционный инсулин, спасая жизнь, не обеспечивает идеального метаболического контроля?
Это создает терапевтический парадокс. Когда инсулин вводится подкожно, его концентрация в организме становится системной. Мы замещаем системный инсулин, который будет действовать на мышцы, печень, мозг и другие ткани, но мы не воссоздаем высокие местные концентрации внутри островков поджелудочной железы. Именно этот уровень необходим для подавления глюкагона.
Таким образом, альфа-клетки остаются относительно бесконтрольными, продолжая производить неадекватные количества глюкагона, хотя они не должны его производить.
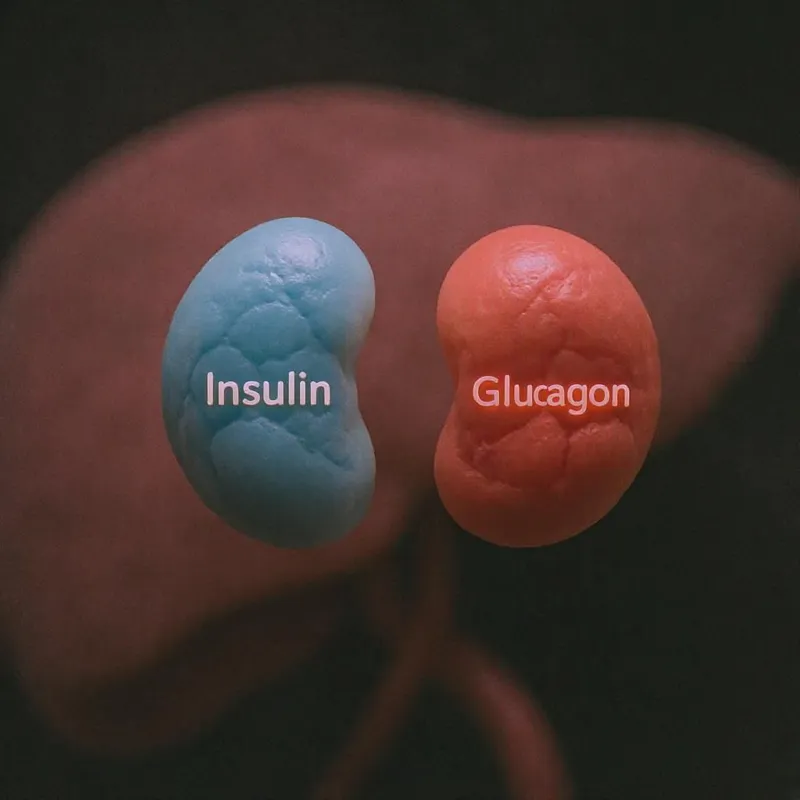
Почему инъекционный инсулин не может полностью воспроизвести нормальный гомеостаз глюкозы?
Дело не только в том, чтобы ввести инсулин в кровоток для стимуляции поглощения глюкозы мышцами; важно также доставить достаточное количество инсулина в островки для подавления глюкагона. При подкожном введении инсулин доставляется в системный кровоток, где он достигает мышц, жировой ткани и печени, способствуя поглощению и хранению глюкозы. Это решает один аспект дефицита инсулина, но не решает проблему глюкагона. Инъекционный инсулин не достигает высоких местных концентраций, необходимых внутри островков поджелудочной железы для отключения глюкагона. В здоровой поджелудочной железе бета-клетки и альфа-клетки тесно связаны в пределах островков. Они являются соседями.
Бета-клетки не просто выделяют инсулин в кровоток; они создают локальную микросреду, где концентрации инсулина необычайно высоки по системным стандартам. Этот местный инсулин затем действует паракринным сигналом, ингибируя высвобождение глюкагона из соседних альфа-клеток. При инъекции инсулина, даже с самыми сложными насосными системами или многократными инъекциями, мы работаем с системными концентрациями инсулина, которые на порядки ниже, чем те, что наблюдаются внутри островков. Мы можем достичь системных уровней инсулина около 100 микроединиц на миллилитр, но концентрации внутри островков составляют 1000 или 10 000 микроединиц на миллилитр, то есть в 10–100 раз выше. Это можно сравнить с разговором в переполненной комнате. Когда два человека стоят рядом, они могут говорить обычным голосом и прекрасно слышать друг друга.
Но если один человек отходит в другой конец комнаты и пытается кричать то же самое сообщение, даже если он кричит, он не будет так же хорошо услышан, и сообщение не будет передано так эффективно.
Почему люди с диабетом 1-го типа часто испытывают трудности с достижением целевых уровней глюкозы, несмотря на, казалось бы, адекватное замещение инсулина?
Почему у них наблюдается большая вариабельность глюкозы по сравнению с людьми, у которых функционируют островки поджелудочной железы?
Почему они всегда подвержены риску кетоацидоза, даже когда получают инсулин?
Почему людям с диабетом 1-го типа часто требуется больше инсулина, чем теоретически необходимо, исходя из размера их тела и даже количества потребляемых углеводов?
Доктор Ангэр объясняет это тем, что мы решаем только половину проблемы. Мы замещаем системный инсулин, но не контролируем глюкагон.
Альфа-клетки продолжают вести себя так, будто тело находится в состоянии голодания, неадекватно производя глюкозу и кетоны из печени, даже когда уровень глюкозы в крови повышен и даже если инсулин присутствует. Также это объясняет, почему людям с диабетом 1-го типа часто требуется больше инсулина. Это связано с тем, что им приходится не просто замещать инсулин, необходимый для поглощения глюкозы, но и пытаться преодолеть выработку глюкозы, вызванную неконтролируемым действием глюкагона. Недавние данные показали, что даже при хорошо контролируемом диабете 1-го типа уровни глюкагона повышены по сравнению со здоровыми людьми. Кроме того, нарушается нормальное подавление глюкагона после еды. У человека без диабета после смешанной пищи уровень инсулина повышается, а уровень глюкагона снижается. У человека с диабетом 1-го типа, который съедает ту же пищу и вводит достаточно инсулина для контроля глюкозы, уровень глюкагона все равно остается слишком высоким.
Каковы клинические последствия глюкагон-центрического взгляда на диабет 1-го типа?
Множественные исследования показали, что у людей с диабетом 1-го типа слишком много глюкагона. Исследования при диабете 1-го типа показали, что эти уровни могут быть в два-три раза выше нормы, что свидетельствует о хронической гиперглюкагонемии. Даже традиционные эндокринологи признают это, хотя могут не знать, что с этим делать. Рассмотрим последствия, такие как гликемическая вариабельность. У людей с диабетом 1-го типа наблюдаются значительно более высокие колебания уровня глюкозы по сравнению со здоровыми людьми. Глюкагон-центрический взгляд объясняет часть этой вариабельности: инсулин помогает на системном уровне, но не на местном. Это создает постоянное перетягивание каната между инсулином и глюкагоном, вызывающее взлеты и падения. Глюкагон-центрическая теория также объясняет кетоацидоз.
Что касается катаболизма белков, который доктор Ангэр отмечал как более неясный момент, это связано с тем, что на мышцах нет глюкагоновых рецепторов. У нелеченых пациентов с диабетом 1-го типа происходит общее истощение. Они очень худые из-за отсутствия жира, поскольку при недостатке инсулина не может происходить накопление жира. Однако у них также истощаются мышцы и кости. Мышцы особенно подвержены распаду белков, поскольку являются основным местом хранения белков и аминокислот в организме. Глюкагон не влияет напрямую на распад мышечного белка, так как нет прямых рецепторов, но он ускоряет поступление аминокислот в печень для их превращения в глюкозу. Инсулин, напротив, очень важен для защиты мышечного белка, удерживая его в мышцах. Когда уровень инсулина падает, эта защитная функция теряется, и мышцы начинают разрушаться. Глюкагон не способствует этому напрямую, но он напрямую способствует поглощению аминокислот печенью для их преобразования в глюкозу.
Что происходит, когда действие глюкагона целенаправленно блокируется?
Были проведены многочисленные исследования, которые изучали, что происходит при специфическом блокировании действия глюкагона. Исследования с использованием антагонистов глюкагоновых рецепторов (блокаторов) показали значительные улучшения в контроле уровня глюкозы у людей с диабетом 1-го типа, даже без изменения инсулиновой терапии. Эти исследования ясно демонстрируют, что блокирование действия глюкагона может снизить как уровень глюкозы натощак, так и после приема пищи, уменьшить вариабельность глюкозы и снизить выработку кетонов.
Насколько это актуально для диабета 2-го типа?
Все это явление также актуально и для диабета 2-го типа, но по-своему. В этом случае речь идет не о дефиците инсулина, а о неспособности инсулина эффективно работать, что называется инсулинорезистентностью.
Инсулинорезистентность является основным дефектом при диабете 2-го типа, и почему мы должны думать, что альфа-клетки будут пощажены? Это одно из главных открытий доктора Роджера Ангэра, которое показало, что даже альфа-клетки могут стать инсулинорезистентными. Таким образом, даже в локальной микросреде островков, где бета-клетки производят много инсулина, альфа-клетки «не слушаются» и продолжают производить глюкагон, хотя не должны.
Какие терапевтические возможности открывает понимание роли глюкагона при диабете?
Понимание проблемы диабета и роли глюкагона открывает новые терапевтические возможности, выходящие за рамки традиционного замещения инсулина. Инсулин всегда будет краеугольным камнем лечения диабета 1-го типа, но необходимы новые подходы, направленные на гиперглюкагонемию. Один из таких подходов — это антагонисты глюкагоновых рецепторов, лекарства, блокирующие действие глюкагона в его целевых тканях, особенно в печени.
Несколько таких препаратов были разработаны и протестированы в клинических испытаниях, и результаты многообещающие. Эти препараты уменьшают реакцию на глюкагон. Другим многообещающим направлением являются аналоги соматостатина. Соматостатин — это гормон, который подавляет как инсулин, так и глюкагон. Хотя это может показаться проблематичным, у человека с диабетом 1-го типа инсулин все равно не вырабатывается, поэтому подавление обоих гормонов не создает проблем, так как подавление инсулина уже не происходит. В итоге подавляется только тот гормон, которого слишком много, а именно глюкагон. Также растет интерес к двухгормональным системам искусственной поджелудочной железы, которые доставляют как инсулин, так и глюкагон более физиологическим образом. Это особенно перспективно даже при трансплантации островков поджелудочной железы или самой поджелудочной железы. Кроме того, есть растущие доказательства эффективности препаратов GLP-1, таких как семаглутид, при диабете 1-го типа.
Один из механизмов действия этих препаратов, особенно в низких дозах (изначально используемых как противодиабетические средства, прежде чем их начали обсуждать как препараты для похудения), заключается в ингибировании глюкагона. Таким образом, препараты GLP-1 могут обладать многообещающим терапевтическим потенциалом, более целенаправленным, чем, например, их применение в качестве средства для снижения веса. Глюкагон-центрический взгляд доктора Ангэра на диабет представляет собой один из важнейших сдвигов парадигмы в нашем понимании этого заболевания со времен первоначального открытия и выделения инсулина. Хотя инсулин, безусловно, является спасательным и критически важным для нашего понимания болезни, уникальный вклад доктора Ангэра выявляет бигормональную природу проблемы: да, слишком мало инсулина, но также и слишком много глюкагона. Важно продолжать принимать эту сложность диабета и искать мультицелевую терапию для этого заболевания.



















 Соусы
Соусы Кексы
Кексы Напитки
Напитки Макаронные и мучные блюда
Макаронные и мучные блюда Грибные блюда
Грибные блюда Кондитерские изделия
Кондитерские изделия Картофельные блюда
Картофельные блюда Паштеты
Паштеты Фруктовые блюда
Фруктовые блюда Каши
Каши Салаты
Салаты Закуски
Закуски Десерты
Десерты Смузи
Смузи Блюда из зернобобовых
Блюда из зернобобовых Запеканки
Запеканки Первые блюда
Первые блюда Выпечка
Выпечка Овощные блюда
Овощные блюда








